- Услуги
- Цена и срок
- О компании
- Контакты
- Способы оплаты
- Гарантии
- Отзывы
- Вакансии
- Блог
- Справочник
- Заказать консультацию
Заказать консультацию
Участие свидетелей в совершении завещания
На протяжении всей истории развития законодательства о наследовании, особое место в нем занимали нормы, содержащие требования, предъявляемые к совершению завещательных актов. Постепенно законодатель вводил в правовой оборот те или иные «инструменты», направленные на обеспечение и гарантию подлинности воли завещателя, выраженной им в завещании. Традиционно к числу таких «инструментов» относятся свидетели, принимающие участие в совершении завещания.
Принимая во внимание огромное значение свидетелей для процедуры совершения завещания, законодатель выработал требования, предъявляемые к фигуре свидетеля, которые различались в зависимости от исторического периода. Так, нормы римского права содержали достаточно развернутый перечень условий, при наличии которых лицо не могло быть свидетелем завещания. Ульпиан в Дигестах указал, что не мог привлекаться к составлению завещания в качестве свидетеля субъект, не имеющий завещательной правоспособности (например, лицо, осужденное за распространение пасквилей) (D. 28.1.18.1.).
Интересно
Далее указывается, что не имеет права быть свидетелем лицо, назначенное наследников по завещанию (D. 28.1.20.1.); не может привлекаться в качестве свидетеля безумный (D.28.1.20.4); женщина (D.28.1.20.6); также раб не допускался к формальной процедуре – даче свидетельских показаний (D.28.1.20.7). Таким образом, в Древнем Риме возможность быть свидетелем завещания зависела от правоспособности лица, его половой принадлежности, состояния психического здоровья и заинтересованности.
В Древней Руси, по нормам церковного права, основным источником которого являлась Кормчая книга, наследодатель должен был писать свои распоряжения при свидетелях. К свидетелям предъявлялись определенные требования: ими могли быть только честные и нравственные люди («не будут разбойници, ни пьяници, ни татье, ни иноея никоея злобы имущие»)
Как видим, главным критерием при отборе свидетелей завещания выступали их нравственные качества. Зависимость от наследодателя или наличие у них заинтересованности в совершении завещания в расчет не принимались. Для составления завещания необходимым считалось присутствие семи свидетелей. Данный императив является наглядным примером влияния на Кормчую книгу римского права, нормы которого содержали аналогичное правило.
Свидетелями могли быть как местные жители, так и «пришельцы». Также оговаривалась возможность для вольноотпущенных выступать в роли свидетеля. Рабы и холопы такой возможностью не обладали. Законодательство Петра I предусматривало, что завещательный акт подписывался завещателем и свидетелями, которые должны были указывать свое звание.
Лица, выступающие в роли свидетелей, должны были соответствовать определенным характеристикам: во-первых, свидетелями могли быть только «добрые люди» с безупречной репутацией, во-вторых, требовалась известность указанных лиц приказу, чтобы при необходимости их без труда можно было разыскать.
Итак, в рассматриваемый период получил правовую регламентацию качественный и количественный состав свидетелей. Основным критерием по-прежнему оставались их нравственные характеристики, однако некоторые из них (известность свидетелей приказу) определялись публичным характером завещания.
Нормы Свода законов Российской империи требовали подписи свидетелей при совершении домашнего духовного завещания (ст. ст. 1048-1052). При этом российское законодательство ограничивало круг лиц, могущих выступать в качестве свидетелей. Очевидно, что цель данной нормы заключалась в том, чтобы недопущением к свидетельству завещаний лиц, заинтересованных его исполнением, не дать повода к подложному составлению завещаний. Необходимость подобной нормы не вызывает сомнения. О ее значении говорилось в одном из решений Правительствующего Сената: «Закон не допускает известных лиц к свидетельству при завещании, потому что желает оградить свободу воли завещателя от влияния лиц, не признаваемых им беспристрастными».
Интересно
В дополнение к сказанному необходимо отметить, что, во-первых, в Полтавской и Черниговской губерниях не допускались к свидетельству женщины. (ст. 1055 ч.1 т. Х Свода законов) Данная норма была заимствована из Литовского статута. Во-вторых, в силу ст. 1048 т. Х Свода законов не могли быть свидетелями переписчик завещания и рукоприкладчик. В-третьих, в соответствии со ст. 1057 ч. 1 т. Х Свода законов раскольники и старообрядцы не могли выступать в качестве свидетелей при совершении завещания православными лицами.
Законодательство советского периода не содержало норм о свидетелях завещания. К числу гарантий подлинности завещаний в рассматриваемый период относились: необходимость письменной формы завещания и участие нотариуса в процессе совершения завещания. Вместе с тем советские ученые-цивилисты по-разному относились к институту свидетелей завещания. Так, например, В.И. Серебровский отмечал несовершенство норм завещательного права и предлагал ввести в правовой оборот так называемое домашнее завещание, конструкция которого предусматривала участие свидетелей.
Также ученый указал требования, которым должны были соответствовать свидетели: свидетелями могли быть только совершеннолетние и дееспособные лица, не являющиеся наследниками по закону или лицами, в пользу которых по завещанию предоставлено какое-либо имущество. Отметим, что гражданское законодательство некоторых союзных республик регламентировало участие свидетелей в завещательном процессе.
Так, согласно ст. 583 ГК Литовской ССР, в случае подписания завещания рукоприкладчиком, необходимо было присутствие двух свидетелей, которые также должны были поставить на завещании свои подписи. Давая правовую оценку данному правилу, ученые отмечали, что нет оснований доверять свидетелям больше, чем государственному нотариусу или должностному лицу, удостоверяющему завещание. Соответствующие положения были развиты, в частности М.Ю. Барщевским, который пришел к выводу, что «эти два свидетеля являются практически рукоприкладчиками, так как их роль ничем не отличается от роли лица, называемого в той же статье ГК Литовской ССР рукоприкладчиком».
Так, присутствие свидетелей является необходимым в случае передачи завещателем нотариусу закрытого завещания, при вскрытии нотариусом конверта с закрытым завещанием, при совершении завещания, приравненного к нотариально удостоверенному, а также при совершении завещания в чрезвычайных обстоятельствах. В остальных случаях присутствие свидетелей допускается по желанию завещателя (п. 4 ст. 1125 ГК РФ), то есть является «факультативным».
Анализ норм зарубежного наследственного права, посвященных регламентации института свидетелей завещания, а также дореволюционный отечественный правовой опыт в данной области позволяют утверждать, что современный российский законодатель учел далеко не все критерии при определении круга лиц, могущих участвовать в свидетельствовании завещания.
Принимая во внимание, что цель такого ограничения – устранить из числа свидетелей людей пристрастных, необъективных и недобросовестных, вызывает недоумение отсутствие в ст. 1124 ГК РФ указания на лиц, осужденных за лжесвидетельство. В соответствии со ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод», предусматривающей ответственность за лжесвидетельство, субъектом данного преступления является лицо, которое умышленно дало заведомо ложные показания.
Интересно
Об этом свидетельствуют указания в законе на заведомость совершаемых действий. Виновный сознает, что он дает по данному делу суду, органам предварительного расследования не соответствующие действительности показания в качестве свидетеля, и желает совершить эти действия.
Таким образом, представляется крайне нежелательным участие лжесвидетелей в процедуре совершения завещания. В связи с вышеизложенным, как нами уже отмечалось ранее, целесообразно дополнить п. 2 ст. 1124 ГК РФ абзацем следующего содержания: «лица, имеющие судимость за дачу ложных показаний».
Статьи по теме
- Метод анализа иерархий
- Наследование по закону выморочного имущества
- Наследование по закону обязательной доли
- Наследники по праву представления
- Супруг, дети и родители как наследники по закону
- Понятие и принципы наследования по закону на современном этапе
- История развития института наследования по закону
- Лишение наследства как вид завещательного распоряжения
- Завещание в чрезвычайных обстоятельствах
Полезные статьи


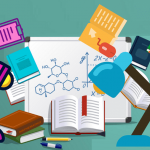






Узнайте цену услуг:
Узнай цену консультации
"Да забей ты на эти
дипломы и экзамены!”
(дворник Кузьмич)

